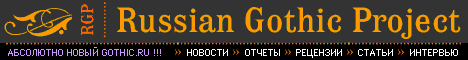Сам термин «гностицизм», дословно означающий «знаньеизм», является весьма некорректным и получившим широкое распространение лишь в конце 80-х гг.19-го века, после выхода трехтомного «Учебника по истории догматов» немецкого либерального лютеранского теолога Адольфа фон Гарнака. Сам смысл появления этого термина (вместо привычных с позднеантичных времен греческих «gnosis» - «знание», а также «gnostikoi» – «знающие») состоял в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в пресловутую «ересеологию» христианских ортодоксов, окончательно отделив, таким образом, «христианство» от «гностицизма».
Майкл Алан Уильямс в своей книге “Rethinking ‘Gnosticism’” (впервые изданной в 1995 г.) вообще предлагал отказаться от использования этого термина; и почти единственное, что мешает нам последовать его совету – то, что кроме «нас», максимум нескольких десятков человек, никто более ему не последует «в силу научной инерции». Во всяком случае, именно это мы видим в течение всех 16 лет, прошедших с момента выхода труда этого видного ученого, хотя вряд ли найдется даже один исследователь темы, который был бы не знаком с этой книгой хотя бы поверхностно.
И тогда, поскольку мы договорились, что термин «гностицизм» продолжает оставаться в наших устах условно-легитимным, и мы будем еще неопределенное время продолжать им пользоваться, давайте разграничим понятия «гностицизма» и «христианского гнозиса» («христианского гностицизма», или «сокровенного христианского знания»).
На мой взгляд, лучшее из существующих определений «гностицизма» (во всяком случае, куда лучшее, чем было дано в пресловутой Википедии вверху страницы) дал ведущий российский исследователь темы и переводчик коптских раннехристианских «гностических» апокрифов Дмитрий Алексеев:
«Гностицизм – комплекс идей, основывающийся на различении и даже противопоставлении в начальных главах книги Бытия Бога (Элохима, Быт., 1:1-2:3), и бога Яхве (Быт., 2:4 слл.). Этот комплекс идей нашел своё многообразное выражение и развитие как в канонической и апокрифической христианской, так и в не христианской литературе, а также в религиозных представлениях ряда групп в поздней античности, Средневековье и Новом времени вплоть до сего дня».
Т.е. речь идет о комплексе идей, где противопоставляется «благой» Бог, Великий Свет, подлинный небесный Отец Иисуса и бог, понимавшийся как узко-племенное божество ортодоксального иудаизма, фактически удерживающее людей в объятиях плотной материи, причем последний в разных гностических космогониях фигурирует иногда как Иалдабаоф (преобразователь материального хаоса с целью поселения в нем человечества), а иногда как всего лишь слуга, ангел Иалдабаофа (как, например, в ключевом тексте нашей Традиции – «Апокрифе Иоанна», без ознакомления с которым «суть гностицизма» понять просто невозможно). В силу вышеозначенного противопоставления, древнюю гностическую литературу мы можем смело охарактеризовать как пара-библейскую.
Основная идея «гностицизма», однако, лежит вовсе не в области космогонии, но в сотереологической плоскости, в плоскости спасения души (в т.ч. от земных реинкарнаций) и воссоединения ее с Полнотой (Плеромой) божественного присутствия (в нескольких поздних гностических текстах, написанных в конце III века, в т.ч. при помощи Магии), а объяснение происхождения и устройства космоса и человека в нем служит лишь отправной точкой. Этот важный момент необходимо четко понимать всем, кто «излишне увлечен» тонкостями гностических космогоний (во множественном числе, поскольку наша Традиция гетеродоксальна, в отличие не только от «новозаветного» христианства, но даже от более поздних ответвлений «гностицизма» в виде манихейства, например) или же гностическим символизмом в целом.
Очевидно, что «длинное» определение «христианского гнозиса», или «гностического христианства», или «христианского гностицизма» будет почти таким же, только из него надо будет убрать слова «…так и в не-христианской литературе» и слегка видоизменить его концовку: «а также в религиозных представлениях рядахристианских групп в поздней античности, Средневековье и Новом времени вплоть до сего дня». Причем слово «канонической» из этой дефиниции убирать, пожалуй, не имеет смысла, поскольку все канонические тексты, т.е. тексты ортодоксального христианства, имеют, в их нынешнем виде, значительно более позднее происхождение, чем тексты гностического христианства; следовательно, несмотря на все усилия цензоров зарождавшейся церкви, в них также сохранилось много «гностического».
Из сказанного выше, учитывая, что Иисус Хрестос (или Иисус Благой) и являлся первым носителем именно вышеупомянутого Гнозиса, вытекает более краткое определение «гностического христианства», которое я и предлагаю читателю:«Гностическое христианство – аутентичное учение Иисуса Назорея и Его Апостолов, а также христианские религиозно-философские системы, основанные непосредственно на нем».
Слова «основанные непосредственно на нем» я хотел бы при этом выделить как важные, поскольку оформившееся лишь в IV веке ортодоксально-христианское учение во многом является извращением аутентичного христианства и не вполне, скажем мягко, «основано на нем» (хотя и не все исследователи, увы, с этим согласны). Подробнее об этом см. в «программной» для гностиков статье Дм. Алексеева «Античное христианство и гностицизм». В той же статье дается подробное объяснение того, почему мы говорим «Иисус Назорей», т.е. последователь назореев, а не «Иисус из Назарета».
Однако мало дать определение; следует еще пояснить, какие именно христианские трактаты I-III вв., из всего их огромного разнообразия, следует в первую очередьпрочитать с целью получения четкого представления о том, что такое «гностическое христианство» (в т.ч. с точки зрения текстовой принадлежности).
-
«Апокриф Иоанна» (беседа Спасителя с Апостолом Иоанном о мiроустройстве и о Знании как о пути спасения от пут мiра). Сохранился в четырех версиях, три из которых находятся в обнаруженной в 1945 году в Египте коптской «Библиотеки Наг-Хаммади», одна – в Берлинском папирусе 8502. Существуют «официальные» русские переводы только наиболее полной версии текста (Наг-Хаммади, II, 1), выполненные М.К. Трофимовой (1989 г.) и Дм. Алексеевым (2010 г.), а также наиболее краткой версии текста (из Берлинского папируса 8502).
-
«Евангелие от Фомы» (Наг-Хаммади, II, 2) – аутентичные логии Иисуса, не связанные единой сюжетной линией. Тематика речей и наставлений – самая разнообразная, однако здесь, в отличие от «Апокрифа Иоанна», практически нет космогонических фрагментов. В целом, следует отметить, что наиболее значимые тексты на коптском языке были собраны именно во II Кодексе Наг-Хаммади.
-
«Евангелие Господне». Сохранено Маркионом и почти полностью доступно в современных реконструкциях. Синопский судовладелец Маркион примерно в 144 г. н.э. попытался познакомить жителей Рима, где на тот момент существовала наиболее обширная община христиан, с подлинными текстами Евангелия Иисуса (а также посланий Апостола Павла). Чтобы дать читателю общее представление об этом тексте, достаточно сказать, что новозаветное «Евангелие от Луки» было скомпановано именно как более чем своеобразное «развитие темы» этого более раннего Евангелия. Представители относительно ранней христианской ортодоксии изменили как текст Евангелия, так и тексты Павла (см. сл. п.) с целью приспособить христианство к «текущему политическому моменту» и, в частности, доказать невозможное: что Небесным Отцом Иисуса был не упоминаемый там Всеблагой, Нетленный, Непознаваемый Отец Всего, но… Яхве. Доказать, конечно, ничего не удалось, зато миллиарды людей на планете в это «уверовали».
-
«Апостол», или сборник из десяти подлинных посланий Павла, сохраненных Маркионом. В него не вошли подложные 1 и 2 Послания Тимофею, Титу и Евреям, а также ни одно из апокрифических посланий Павла (вероятно, псевдо-эпиграфов).
-
«Антитезы» Маркиона. Также почти доступны в ряде реконструкций (написаны ок. 144 г. н.э.). Это, очевидно, единственный труд, принадлежавший самому Маркиону, к тому же весьма краткий. Маркион не был теологом, поэтому «свидетельства» ересеологов-ортодоксов о его учениках и даже школах не следует принимать всерьез. Факультативно рекомендую также один труд о «маркионитском» происхождении ранней версии ныне также старательно испорченного, или «отредактированного» новозаветного «Евангелия от Иоанна».
Из книг пресловутых «ересеологов» я мог бы посоветовать прочитать только труд«Опровержение всех ересей» Ипполита Римского (поскольку там есть «прямая речь» гностиков, за что, очевидно, сей муж и попал в список Святых EGC), однако его полного русского перевода не существует по сей день. В связи с этим досадным обстоятельством тем из вас, кто не владеет каким-либо иностранным языком, видимо, придется сначала читать первый антигностический в христианской истории труд «Против ересей» Иринея Лионского (со всеми выдуманными там «школами»)…
Однако вернемся к приведенному выше «Определению ‘гностицизма’». В нем упоминаются «…религиозные представления ряда групп в поздней античности, Средневековье и до сего дня». Наиболее близкими к «классическому», т.е. христианскому гностицизму I-IV вв., являются следующие учения:
-
Позднеантичный герметизм, тексты которого встречаются уже в коптской гностической коллекции из Наг-Хаммади (Кодекс VI), собранной в начале IV века. Герметизм, изначально существовавший как учение, приписываемое Гермесу Трисмегисту, подвергся «вторичной христианизации» именно под влиянием ранниххристиан (т.е. гностиков) и сам содержит в себе гностическую доктрину духовного роста, просветления и освобождения человека, однако в основе своей он лишен «гностического» космо-антропологического дуализма той или иной степени строгости. Впрочем, этот дуализм не просматривается и в ряде «строго гностических» текстов, например, в «Книге Величий Отца» из Кодекса Брюса.
-
Манихейство. Весьма распространена точка зрения, согласно которой манихейство – это синкретическая религия, где христианский Гнозис является лишь одной из составных частей. Однако я бы поспорил с этим тезисом. Манихейство – лишенное гетеродоксальности, т.е. очень цельное и непротиворечивое, гностико-христианское по сути своей учение, основанное в середине III века пророком Мани Хайя, в активной фазе просуществовавшее до XIV века и распространявшееся вплоть до Китая на восток, фактически превратившись в одну из мировых религий. Именно христианские представления являлись для Мани ключевыми, остальные же (элементы буддизма, зороастризма, мандеизма и др.) лишь прилагались в качестве «дополнительных аргументов» истинности учения. На христианский характер манихейства указывает, в частности, содержание единственного сохранившегося объемного манихейского трактата «Кефалайа», а также полемика Фауста Манихея с «блаженным» Августином, полностью сохранившаяся в работе Августина «Против Фауста манихея».
-
Учения богомилов и катаров, которые некоторые (и безусловно уважаемые мною!) исследователи причисляют к неким еретическим, антицерковным, дуалистическим отклонениям от «магистрального» уже, т.е. новозаветного христианства, всё же являются, на мой взгляд, прямой инкарнацией гностических учений I–III вв. (достаточно прочитать «Тайную Книгу Богомилов», чтобы убедиться в ее очевидном родстве, например, с «Апокрифом Иоанна», хотя эта книга, с огромной вероятностью, в отличие от «Апокрифа», и является псевдо-эпиграфом). Учения катаров и богомилов являются близко родственными друг другу. Фактически, в духовном отношении это одно и то же учение, в силу географической разбросанности вынужденное принимать те или иные национальные формы. В отличие от катаров, уничтоженных «святой» инквизицией, некоторые богомильские общины смогли выжить и просуществовать, например, в Боснии вплоть до конца XIX века. Богомильство существовало также и в Киевской Руси.
-
Учения по сей день активно действующих некоторых нео-розенкрейцерских обществ, в частности, Lectorium Rosicrucianum, возрожденного в Нидерландах в 1946 году и имеющего сейчас отделения во многих странах мира.
-
Учения современных гностических церквей. В частности, речь идет о Гностической [католической] церкви в ее до-телемитских ипостасях конца XIX – начала XX веков; о наполовину теософской, наполовину гностической «Свободной католической церкви»; об активно действующей и поныне церкви Ecclesia Gnostica (в основном в США) и т.п. Труды экс-епископа последней, д-ра Стефана Хёллера (частично см. в разных местах здесь), к тому же, дают представления о современном синтезе «гностицизма», либертарианства (не путать с «либертинизмом», т.е. «развратом», которого, вопреки «откровениям» ересеологов, у аскетичных гностиков, кроме,возможно, пост-гностических «борборитов» уже конца 3-го – начала 6 вв., никогда [к сожалению?] не было) и аналитической психологии Карла Густава Юнга, которогонекоторые исследователи также считают сознательным гностиком. Безусловное влияние «гностицизм» (хотя зачастую и излишне широко понимаемый) оказывал и оказывает также на философию, литературу, театр, кино, живопись и музыку.
Этот список, во избежание споров о «гностичности» того или иного учения, предумышленно краток (например, в него не были внесены павликиане, алхимики, ряд европейских мистиков Средневековья и Нового времени и т.д.). Кроме того, особняком стояли и стоят до сих пор общины мандеев, существующие на Ближнем и Среднем Востоке уже свыше двух тысячелетий. Этот термин образован от перс. «манда» - «Знание», или тот же «Гнозис», причем к «христианскому гностицизму» мандеи имеют лишь косвенное отношение (хотя, безусловно, имеют).
|